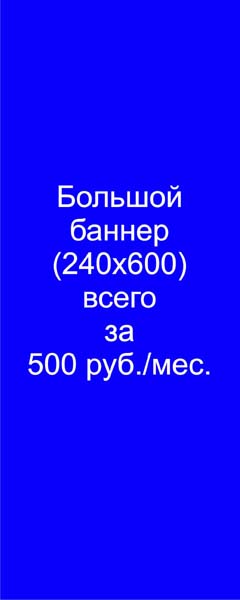20.03.2011
Философия. Человек и инстинкты
Мы — результат эволюции жизни, плоть от плоти других животных. Результатом эволюции животных является не только их анатомия и физиология, но и их поведение. Как мы только что установили, наша анатомия и физиология объясняются нашей историей. А как с нашим поведением?
С поведением чуть сложнее. Дело в том, что наша сущность не исчерпывается нашей животной природой. По мере эволюции нашей биологической сущности, основанной на генетическом наследовании, к ней добавилась социальная — основанная на культурной передаче.
В эволюции большинства животных главную роль играет генетическое наследование. Каждый организм получает определённый набор генов — переключателей, регуляторов развития. Те, у кого такой набор более соответствует определённому образу жизни в сложившихся условиях среды, чаще выживают и оставляют потомство. По мере совершенствования земных организмов совершенствовался и механизм их эволюции. Важным шагом вперёд стало появление культурного наследования — наследования благодаря обучению. Преимуществом культурного наследования перед генетическим является возможность передачи приобретённого опыта, причём не только от предков к потомкам, но и к любым особям, готовым усваивать новый опыт. Культурно наследуются особенности песни у соловьёв, умение выбирать маршрут перелёта у журавлей, приёмы охоты у хищных млекопитающих и китообразных и многие другие признаки различных высокоорганизованных животных. Важно подчеркнуть, что культурное наследование возникало в разных группах животных неоднократно.
Однако лишь у одного вида механизм культурного наследования стал ведущим в ходе его приспособления к среде. Это — наш вид. Именно культурное наследование обусловило колоссальный скачок приспособленности нашего вида, колоссальный рост его численности, всё разнообразие форм человеческой деятельности. Количество информации, которая передаётся у нашего вида культурно, на порядки превосходит «пропускную ёмкость» генетического канала. Интенсивный информационный обмен обусловил неслыханную скорость выработки новых приспособлений.
Но наряду с преимуществами, по сравнению с генетическим наследованием, культурное имеет и свои недостатки. Для его эффективного осуществления требуется прямо-таки огромный мозг с длительным периодом развития. У тех животных, поведение которых задано генетически, развитие нейронных структур в мозге определяют жёсткие программы. Генетика определяет структуру мозга, структура мозга задаёт поведение. У нас всё сложнее. Генетический фундамент определяет длительный период роста и самоорганизации структур нашего мозга. Но ключевые особенности нашего поведения зависят от тех структур, на развитие которых влияют не только гены, но и обучение. Это обучение основано на взаимодействии особей. Важным инструментом, интенсифицирующим такое взаимодействие, стало сознание — совокупность психических процессов, организующих познавательную и социальную активность индивида.
Даже из этого чрезвычайно конспективного изложения ясна двойственность природы человека. То, с чем мы отождествляем себя, наше сознание, — результат влияния обучения и взаимодействия с другими людьми на биологически, эволюционно сформированный и генетически детерминированный фундамент. Наше тело эволюционировало почти четыре миллиарда лет, животная психика — сотни миллионов лет. Наше сознание, наша культура очень молоды по сравнению с той основой, на которой они развиваются.
И вот теперь вспомним один из важных выводов, который следует из рассмотренного нами примера со слепым пятном в нашем глазу. Эволюция сохраняет те изменения, которые повышают вероятность их носителей на выживание в имеющихся на тот момент условиях. Если условия меняются, прежние приспособления становятся анахроничными, устарелыми. Так, органы зрения, расположенные внутри нервной трубки, являлись адекватным приспособлением первых хордовых с их прозрачными телами, но стали анахронизмом уже на следующем эволюционном этапе.
Могут ли программы, обеспечивающие наше поведение, в том числе половое, нести в себе такие же анахронизмы? Да, могут. И несут, на самом деле. И культурные программы, которые мы усваиваем в ходе нашего обучения, тоже несут анахроничные, устарелые элементы (хотя и меньше, чем более инерционные биологические программы). К примеру, «слепое пятно» во взгляде на биологические предпосылки собственного поведения, характерное не только для теоретиков феминизма, а и для большинства гуманитариев, рассуждающих о природе человека, кажется мне таким культурным анахронизмом.
Отрицание, капитуляция или модификация?
Как вы поняли, я считаю чрезвычайно важной задачей преодоление «слепого пятна» в нашем взгляде на самих себя, изучение и понимание наших биологических программ. Обсуждение этих программ — небыстрое дело, и здесь для него не хватит места. А здесь я хочу обсудить лишь то, как сохранить свою свободу, несмотря на наличие анахроничных программ, управляющих нашим поведением. Ну, к примеру, что делать, если выясняется, что наши врождённые модели сексуального поведения не соответствуют разделяемым нами идеалам?
Наша биологическая эволюция проходила в маленьких племенных группах с высокой смертностью. Эволюция полового поведения была направлена на максимизацию количества потомков. «Зашитые» в нас биологические программы подталкивают нас к высокой половой активности, многочисленным совокуплениям с партнёром в паре, а также зачастую к поискам новых партнёров.
Однако современный человек живёт в ином мире, чем архаичный. Детская смертность, к счастью, снизилась. Одной из главных проблем, с которой сталкивается планета, стало перенаселение. Образованные женщины хотят не только рожать ребёнка за ребёнком, но и тратить время и силы на саморазвитие и карьеру.
Что делать? Упрощая, можно сказать, что современный человек может отрицать свои биологические программы, капитулировать перед ними или разумно модифицировать их действие. Рассмотрим эти варианты по очереди.
1. Отрицание. Объявить врождённые модели несуществующими и твёрдо для себя решить, что человек такой, как он о себе думает. Увы, это решение чревато невротизацией (убеждение З. Фрейда, что причина всех аномалий в поведении человека — бунт подавляемой сексуальности, было прямым следствием жизни в обществе, пытавшемся эту сексуальность игнорировать). Человек, игнорирующий биологические программы в себе и других, окажется беспомощен перед манифестациями этих программ не только в своих ближних, но и в себе самом. В самом мягком случае такой человек будет просто недостаточно счастлив из-за конфликта двух своих природ.
2. Капитуляция. Сдаться перед своими биологическими программами, найдя в них оправдание своим общественно порицаемым действиям. «Что же я могу поделать с тем, что я неконтролируемо распутен и агрессивен — такова моя животная природа!» Обилие нежелательных детей или череда абортов, различные болезни, выпадение из социальных структур не исчерпывают плату за попытку пойти по такому пути. Выбравший его человек всё равно будет страдать из-за разлада биологической и социальной природ.
3. Модификация. Принять свою биологическую природу и учиться управлять ей в желаемом направлении. Оценивая свою сущность, не лепить на неё ярлыки «хорошо» — «плохо». Действующий таким образом человек, если он найдёт способ использовать свои врождённые программы, направляя их в желаемое для него русло, будет действительно счастлив. Например, защищённый секс в рамках принимающей его культуры окажется способом реализовывать свои биологические программы и не делать себя несчастным.
Понятно, что понимание наших биологических программ поможет находить решения, соответствующие третьему пути. Биологические программы влияют не только на наше половое поведение. Думаю, что даже решение проблемы тоталитаризма невозможно без учёта наших биологических программ, отвечающих за иерархическое поведение. Сам стиль нашего мышления, круг решаемых нами задач в значительной степени определены теми условиями, в которых происходило формирование нашего интеллекта.
Убеждать себя, что никаких биологически обусловленных программ у нас нет, — дополнительно навешивать на себя шоры. Если мы хотим быть счастливыми и свободными, мы должны найти способ увидеть себя целиком, принять свою биологическую природу и научиться жить с ней в мире.
С поведением чуть сложнее. Дело в том, что наша сущность не исчерпывается нашей животной природой. По мере эволюции нашей биологической сущности, основанной на генетическом наследовании, к ней добавилась социальная — основанная на культурной передаче.
В эволюции большинства животных главную роль играет генетическое наследование. Каждый организм получает определённый набор генов — переключателей, регуляторов развития. Те, у кого такой набор более соответствует определённому образу жизни в сложившихся условиях среды, чаще выживают и оставляют потомство. По мере совершенствования земных организмов совершенствовался и механизм их эволюции. Важным шагом вперёд стало появление культурного наследования — наследования благодаря обучению. Преимуществом культурного наследования перед генетическим является возможность передачи приобретённого опыта, причём не только от предков к потомкам, но и к любым особям, готовым усваивать новый опыт. Культурно наследуются особенности песни у соловьёв, умение выбирать маршрут перелёта у журавлей, приёмы охоты у хищных млекопитающих и китообразных и многие другие признаки различных высокоорганизованных животных. Важно подчеркнуть, что культурное наследование возникало в разных группах животных неоднократно.
Однако лишь у одного вида механизм культурного наследования стал ведущим в ходе его приспособления к среде. Это — наш вид. Именно культурное наследование обусловило колоссальный скачок приспособленности нашего вида, колоссальный рост его численности, всё разнообразие форм человеческой деятельности. Количество информации, которая передаётся у нашего вида культурно, на порядки превосходит «пропускную ёмкость» генетического канала. Интенсивный информационный обмен обусловил неслыханную скорость выработки новых приспособлений.
Но наряду с преимуществами, по сравнению с генетическим наследованием, культурное имеет и свои недостатки. Для его эффективного осуществления требуется прямо-таки огромный мозг с длительным периодом развития. У тех животных, поведение которых задано генетически, развитие нейронных структур в мозге определяют жёсткие программы. Генетика определяет структуру мозга, структура мозга задаёт поведение. У нас всё сложнее. Генетический фундамент определяет длительный период роста и самоорганизации структур нашего мозга. Но ключевые особенности нашего поведения зависят от тех структур, на развитие которых влияют не только гены, но и обучение. Это обучение основано на взаимодействии особей. Важным инструментом, интенсифицирующим такое взаимодействие, стало сознание — совокупность психических процессов, организующих познавательную и социальную активность индивида.
Даже из этого чрезвычайно конспективного изложения ясна двойственность природы человека. То, с чем мы отождествляем себя, наше сознание, — результат влияния обучения и взаимодействия с другими людьми на биологически, эволюционно сформированный и генетически детерминированный фундамент. Наше тело эволюционировало почти четыре миллиарда лет, животная психика — сотни миллионов лет. Наше сознание, наша культура очень молоды по сравнению с той основой, на которой они развиваются.
И вот теперь вспомним один из важных выводов, который следует из рассмотренного нами примера со слепым пятном в нашем глазу. Эволюция сохраняет те изменения, которые повышают вероятность их носителей на выживание в имеющихся на тот момент условиях. Если условия меняются, прежние приспособления становятся анахроничными, устарелыми. Так, органы зрения, расположенные внутри нервной трубки, являлись адекватным приспособлением первых хордовых с их прозрачными телами, но стали анахронизмом уже на следующем эволюционном этапе.
Могут ли программы, обеспечивающие наше поведение, в том числе половое, нести в себе такие же анахронизмы? Да, могут. И несут, на самом деле. И культурные программы, которые мы усваиваем в ходе нашего обучения, тоже несут анахроничные, устарелые элементы (хотя и меньше, чем более инерционные биологические программы). К примеру, «слепое пятно» во взгляде на биологические предпосылки собственного поведения, характерное не только для теоретиков феминизма, а и для большинства гуманитариев, рассуждающих о природе человека, кажется мне таким культурным анахронизмом.
Отрицание, капитуляция или модификация?
Как вы поняли, я считаю чрезвычайно важной задачей преодоление «слепого пятна» в нашем взгляде на самих себя, изучение и понимание наших биологических программ. Обсуждение этих программ — небыстрое дело, и здесь для него не хватит места. А здесь я хочу обсудить лишь то, как сохранить свою свободу, несмотря на наличие анахроничных программ, управляющих нашим поведением. Ну, к примеру, что делать, если выясняется, что наши врождённые модели сексуального поведения не соответствуют разделяемым нами идеалам?
Наша биологическая эволюция проходила в маленьких племенных группах с высокой смертностью. Эволюция полового поведения была направлена на максимизацию количества потомков. «Зашитые» в нас биологические программы подталкивают нас к высокой половой активности, многочисленным совокуплениям с партнёром в паре, а также зачастую к поискам новых партнёров.
Однако современный человек живёт в ином мире, чем архаичный. Детская смертность, к счастью, снизилась. Одной из главных проблем, с которой сталкивается планета, стало перенаселение. Образованные женщины хотят не только рожать ребёнка за ребёнком, но и тратить время и силы на саморазвитие и карьеру.
Что делать? Упрощая, можно сказать, что современный человек может отрицать свои биологические программы, капитулировать перед ними или разумно модифицировать их действие. Рассмотрим эти варианты по очереди.
1. Отрицание. Объявить врождённые модели несуществующими и твёрдо для себя решить, что человек такой, как он о себе думает. Увы, это решение чревато невротизацией (убеждение З. Фрейда, что причина всех аномалий в поведении человека — бунт подавляемой сексуальности, было прямым следствием жизни в обществе, пытавшемся эту сексуальность игнорировать). Человек, игнорирующий биологические программы в себе и других, окажется беспомощен перед манифестациями этих программ не только в своих ближних, но и в себе самом. В самом мягком случае такой человек будет просто недостаточно счастлив из-за конфликта двух своих природ.
2. Капитуляция. Сдаться перед своими биологическими программами, найдя в них оправдание своим общественно порицаемым действиям. «Что же я могу поделать с тем, что я неконтролируемо распутен и агрессивен — такова моя животная природа!» Обилие нежелательных детей или череда абортов, различные болезни, выпадение из социальных структур не исчерпывают плату за попытку пойти по такому пути. Выбравший его человек всё равно будет страдать из-за разлада биологической и социальной природ.
3. Модификация. Принять свою биологическую природу и учиться управлять ей в желаемом направлении. Оценивая свою сущность, не лепить на неё ярлыки «хорошо» — «плохо». Действующий таким образом человек, если он найдёт способ использовать свои врождённые программы, направляя их в желаемое для него русло, будет действительно счастлив. Например, защищённый секс в рамках принимающей его культуры окажется способом реализовывать свои биологические программы и не делать себя несчастным.
Понятно, что понимание наших биологических программ поможет находить решения, соответствующие третьему пути. Биологические программы влияют не только на наше половое поведение. Думаю, что даже решение проблемы тоталитаризма невозможно без учёта наших биологических программ, отвечающих за иерархическое поведение. Сам стиль нашего мышления, круг решаемых нами задач в значительной степени определены теми условиями, в которых происходило формирование нашего интеллекта.
Убеждать себя, что никаких биологически обусловленных программ у нас нет, — дополнительно навешивать на себя шоры. Если мы хотим быть счастливыми и свободными, мы должны найти способ увидеть себя целиком, принять свою биологическую природу и научиться жить с ней в мире.